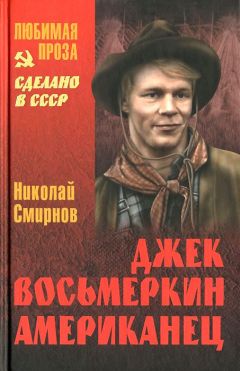Татьяна приходила в отчаяние, но не хотела покориться. Она сделала попытку привлечь на свою сторону Джека, но из этого ничего не вышло.
Джек никогда не ругался, брился через день и был очень чистоплотен. Его Америка приучила к этому.
С работы он возвращался не менее перепачканным, чем остальные, а даже больше: он имел дело с машинами, со смазкой, с керосином. Но он не садился за стол, пока не отмывал грязи и не снимал рабочей одежды. Татьяна просила его подействовать в этом же направлении на коммунаров, но Джек отвечал:
— Подожди три года, Татьяна. Тогда мы займемся чистотой вплотную. Для этого надо прежде всего вырыть артезиан. А сейчас, сама знаешь, воды нехватает в колодце. Подожди три года, тогда мы покажем чистоту, какая тебе и не снилась.
— Но за три года можно умереть от грязи. В большом доме появились клопы.
— Клопов мы выбьем сейчас. А образцовая чистота начнется с постройкой артезиана.
Но Татьяне не пришлось ждать три года, дело обошлось и без артезиана. Коммуна оказалась лучшей школой новой жизни. Незаметно прививала она своим участникам широкий кругозор, сплоченность, чувство товарищества. Вслед за этим пришли дружелюбие и чистота. Большой дом дал простор. Мастерская устранила бедность в мебели, появился порядок в столовой, конторе, комнатах. Люди тоже не стояли на месте, каждый по отдельности и все вместе росли, менялись к лучшему. Мыться перед едой вошло в обыкновение, рядом со столовой была устроена умывальная комната. Никто уже не бросал костей под стол и не сморкался на стену. Ругательства вышли из обихода коммуны, за них штрафовали по гривеннику в пользу библиотеки. Сережка Маршев как-то привез из города зубную щетку. Вскоре у каждого появилось по щетке, завелись и бритвы и носовые платки. Коммуна теперь была совсем не та, что вначале. Но Татьяна как-то не замечала этого. Скорей ей казалось, что она просто привыкла к грязи и людям и опустилась сама.
Никто не знал ее мыслей, печали и слез. Она жила все время в тайной отчужденности от своих новых товарищей. Помимо своей воли, она видела во сне прежнюю усадьбу, и даже братьев своих она вспоминала с любовью. Поваленные на аллее дубы вызывали в ней грусть. Цветник перед домом, о котором она мечтала весной, временами казался ей неуютным и ненужным.
Главное несчастье Татьяны заключаюсь в том, что она ни с кем не могла поделиться своими мыслями. Даже Джек был для нее чужой человек, хотя по внешности это не чувствовалось. Татьяна редко спорила с ним, она считала, что все равно он не поймет ее. Они слишком разно смотрели теперь на вещи. Кроме того, Джек был всегда занят и, казалось, не имел нужды в задушевном разговоре и даже отдыхе.
Он ожесточенно работал, и это наполняло его жизнь до краев. Только работа в большом общем деле может так увлечь человека. Он работал не только руками и не только головой, но и все чувства его находили себе применение на полях, на собраниях, в городе. Он не был теперь одиноким, как прежде, в Починках. Каждое чувство его было чувством его товарищей, и это удваивало и утраивало его энергию.
Прежние мечты о маленькой форме казались Джеку смешной, ничтожной затеей, пустой спичечной коробкой, которую выбрасывают на дорогу легко и без сожаления. Перед ним открывались возможности, о которых он и не мечтал в Америке. Обилие земли, грандиозные планы, новые товарищи — все это увлекало его. Он рос на работе в поле и в лесу, во время бесед и собраний, он все время двигался вперед к общей цели. А вот Татьяна не сумела перестроиться. Внешне она не была чужой в коммуне. Ей доверяли, и Татьяна всегда старалась оправдать доверие. Но жизнь не казалась ей такой простой, как коммунарам, успехи — не такими большими, и часто новые мероприятия коммуны вызывали в ней внутренний протест, которого она не решалась высказать.
Сейчас, например, она считала, что со Скороходовым поступили несправедливо. Ей было жалко старика, который гнался по улице за лошадью, и она не понимала Джека, который был зачинщиком всего этого дела. «Нехорошо он поступил, — думала она, — не по-человечески». И Татьяна заснула с мыслью, что завтра утром она наконец поговорит подробно с мужем обо всем, выскажет ему все свои сомнения и попросит на них ответа. Но ей не удалось сделать этого.
Когда Татьяна проснулась, Джека в комнате не было. Он встал рано, тихо оделся и побежал закапывать Боби Снукса. Татьяна решила поговорить с ним после обеда и даже придумала, как начать. Но Джек не пришел к обеду. Как выяснилось, он работал на электростанции и, видимо, захватил еду с собой. Татьяна хотела перекинуться словечком с Николкой, но сразу поняла, что из этого ничего не выйдет. Николка говорил за обедом с возмущением о ночном нападении, и все разделяли его гнев. Врага не называли, но ясно было, что существует не подозрение, а уверенность. Вмешаться в разговор Татьяна не осмелилась. И дальше, после обеда, Татьяна тосковала и томилась, желая хоть с кем-нибудь поделиться мыслями. И она нашла такого человека — Пелагею Восьмеркину.
Как это ни странно, Пелагея и Татьяна очень близко сошлись между собой в коммуне. Старуха полюбила Татьяну, во всем угождала ей, и, когда Джека не было, она приходила на светелку, и они шептались о чем-то. И теперь, после обеда, Татьяна позвала Пелагею наверх, и они долго разговаривали. Под вечер старуха тихо сошла со светелки, а Татьяна заснула.
Джек вместе с Чарли долго работал на станции. Ночной дождь размыл рабочий рукав, и надо было подсыпать камней у жолоба. Над этим провозились до позднего вечера. Поэтому Джек не пришел и к ужину, и напрасно Татьяна ждала его. Только часов в десять вечера Чарли закричал на дворе по-английски, и Татьяна поняла, что Джек вернулся. Она сейчас же накинула платок и вышла на крыльцо. У конюшни слышались голоса, и Татьяна пошла туда.
При свете фонаря она увидела две телеги, запряженные парой лошадей каждая. Весь актив коммуны был здесь. Оживленно разговаривали, и Татьяна подошла незаметно.
— Куда собираетесь ехать, ребята? — спросила она.
— Да вот хотим одною человечка в город, в больницу, свезть, — лукаво ответил Николка.
Татьяна поняла, о каком человечке идет речь, но она чувствовала, что сейчас заступаться за Скороходова уже поздно. Коммунары были одеты по-дорожному, и, судя по всему, у них все было решено. Однако Татьяна все-таки захотела сделать еще одну попытку. Она потянула Джека за рукав и тихо сказала:
— Джек, поди сюда. Ведь мы не видались с тобой сегодня.
— Верно, Таня. Я на плотине с утра.
Они отошли в сторону. Татьяна зашептала:
— Мне надо поговорить с тобой по секрету.
— А завтра?
— Нет, сейчас.
— Ладно, говори.
— Джек, — сказала Татьяна и неожиданно для себя самой заплакала, — я знаю, вы Скороходова выселять едете. Не надо, не надо этого делать.
— Будет тебе, Таня, — сказал Джек, скрывая возмущение. — Ну, чего ты за него заступаешься? Ведь если он больной, его прежде всего вылечат.
— Нет.
И вдруг она почувствовала в себе какой-то гнев, решительность, силу.
— Я уйду из коммуны, если вы это сделаете… Уеду в Москву…
И, не дав Джеку сказать, она побежала к пруду так быстро, как будто решила утопиться. Джек догнал Татьяну за кустами сирени. Он сжал ей руку и зашептал в лицо:
— Как тебе не стыдно… Из-за кулака… Ведь он сожжет нас, если его оставить. Иди сейчас же домой!
— Хорошо, Джек, — сказала Татьяна покорно.
В этот же момент ей показалось, что в кустах промелькнула какая-то тень. Татьяна задрожала от волнения, даже зубы застучали.
— Чего ты, Таня, такая? — спросил Джек мягко. — Больна, что ль?
— Мне очень страшно, Джек. Мне кажется, что здесь, в саду, ходят…
— Где?
— Вот там, за сиренью.
Джек сделал движение к сирени, но Татьяна удержала его.
— Не ходи туда, не ходи… Я боюсь…
— Чего же бояться-то? Если там кто-нибудь ходит, то я его сейчас…
— А если он тебя?.. Подожди… Я хочу скачать тебе один секрет. Ты знаешь, я послала…
— Сейчас, Таня, погоди! — закричал Джек громко. — Я сперва посмотрю… Не должно быть врагов у коммуны…
Как раз в этот момент пухлый желтый огонь показался в темных кустах. Затем грохот выстрела и сильный толчок. На этом оборвалось сознание Татьяны и Джека.
Ружье, очевидно, было заряжено волчьей картечью, иначе выстрел не уложил бы сразу двоих.
Они упали рядом, держась за руки.
Редактор перебирал последние телеграммы из провинции и вдруг как-то наморщился, вскочил с места и вынул одну телеграмму из пачки остальных. Потер лоб, прошелся по комнате, не зная, что делать. Потом быстро подбежал к телефону, взялся за трубку. Назвал номер, все еще глядя на телеграмму.
![Николай Смирнов - Джек Восьмеркин американец [3-е издание, 1934 г.]](https://cdn.my-library.info/books/150497/150497.jpg)